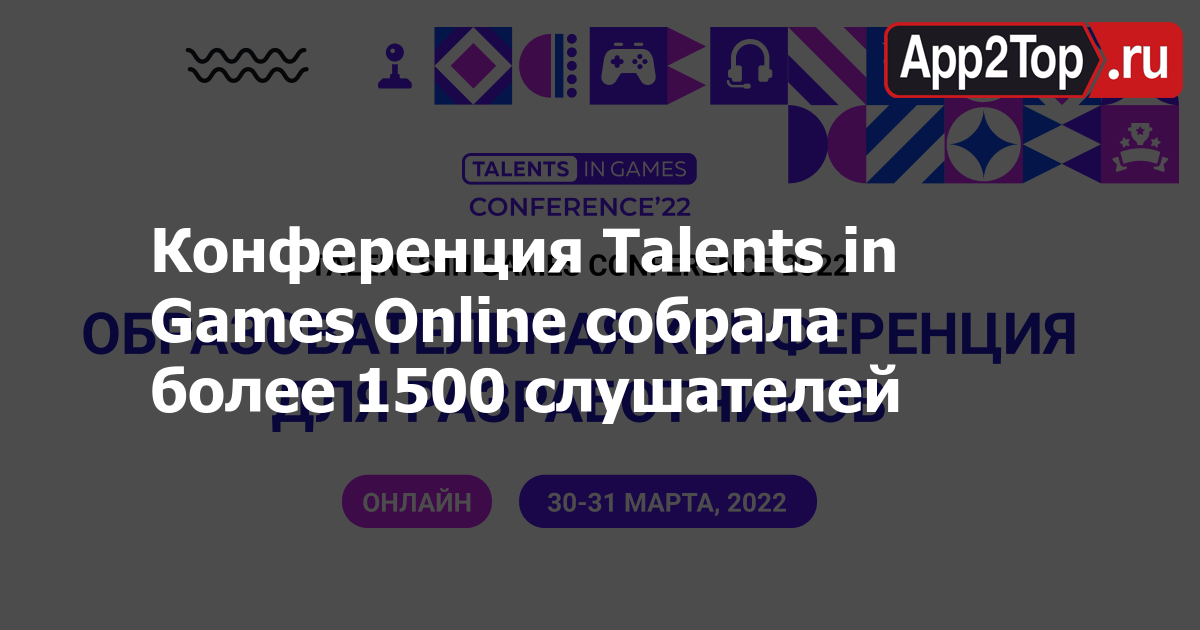- Select a language for the TTS:
- Russian Female
- Russian Male
- Language selected: (auto detect) - RU
Play all audios:
Владимир Андреевич ГОЛОВНЕВ — молодой, но уже титулованный режиссер документального кино. Сейчас он живет в Екатеринбурге, а родился в Омске, в семье историков: мама преподает историю в
ОмГУ, отец — видный российский этнограф, член-корреспондент РАН, а также музыкант, поэт и режиссер-документалист. Корреспондент «КВ» Ирина БОРОДЯНСКАЯ поговорила с Владимиром ГОЛОВНЕВЫМ о
кино и родном городе. — Вы ведь в Омске давно уже не живете. Что-то этот город для вас еще значит? — Я из Омска, здесь родился. Некоторое время жил в Тобольске, когда мои родители по
направлению туда попали. Там учился в школе. В 16 лет вернулся обратно в Омск, поступил в ОмГУ на исторический факультет. Окончив его, учился в Москве, в киношколе, а потом жил в каком-то
неопределенном пространстве, сразу в нескольких городах. В Екатеринбурге меня называли уральским режиссером, в Омске – омским. Конечно, это не совсем правда, что я омский режиссер, но я
считаю Омск своей родиной и люблю его больше остальных городов. К тому же, здесь у меня есть фирма, которая занимается производством фильмов, — кинокомпания «Игра». Признаюсь, все те
проекты, которые получали успех на кинофестивалях, показывались в других странах и были адресованы избранному зрителю, не являются проектами «Игры». Все они снимались на свердловских и
московских студиях, на которых я выступал как режиссер. — Чем занимается ваша кинокомпания? — «Игра» занимается производством фильмов, совмещая творческое и коммерческое начало. Мы работаем
и с Минкультом РФ, где имеем полную творческую свободу, и с инвесторами, которые заинтересованы в опреденном продукте. Например, последний фильм об Алексее ТИЩЕНКО мы сделали по заказу его
окружения. У него хорошее окружение – люди, которые хотели, чтобы продолжалась его карьера, возможно, уже не спортивная, но общественная, политическая. Им нужен был этот фильм, они давно
хотели его снять и обратились ко мне. — Почему они обратились к вам? — Мы с ними познакомились через представителей администрации города. Заказчики искали режиссера, который взялся бы за эту
тему, и им порекомендовали меня. Мы полтора года работали над этим фильмом, параллельно ведя другие проекты. С Лешей мы путешествовали, снимали его последние тренировки, просто
разговаривали. Мне было интересно понять, что это за явление такое — чемпион. Фильм так и называется — «Анатомия чемпиона». Мы как раз попали на тот момент, когда Леша решил завершить
спортивную карьеру. И стало понятно, что фильм, который мы задумывали — о мечтах человека, который готовится стать трехкратным олимпийским чемпионом, не получится. Изначально думали, что
поедем и в Лондон и станем развивать новый для нас жанр — исследование закулисья мирового спорта. Собирались показать, что творится со спортсменом в тот момент, когда все смотрят шоу. В моем
фильме «Занавес», к примеру, показывается закулисье театра. А что в спорте? Но не получилось. Начали снимать, только-только разогнались, и вдруг – ступор, пауза. Все перестали понимать, что
происходит. Ситуация в тот момент была действительно важная. Человек только что был звездой, и в один момент все закончилось. У спортсменов это случается довольно часто. Это тоже было очень
интересно. Понятно, что при этом у фильма есть заказчик, и мы консультировались по многим вопросам. Творческие работы, где я позволяю себе разные творческие вольности, подчас довольно
резкие, при наличии заказчика делать неуместно. Такая реальность во всем мировом кино. — Как я понимаю, любой фильм требует спонсора? — Да, у каждого фильма есть деньги, вопрос – кто
финансирует. Существуют разные формы. При наличии заказчика приходится, так или иначе, на него оглядываться, даже если он просто замечательный человек. А если ты выиграл грант или получил
государственную субсидию, то здесь главное – не нарушать законов РФ и, конечно, иметь художественный уровень. Дальше – полная свобода. Не нарушай законов, не показывай лишний раз пропаганду
алкоголизма и табакокурения, не провоцируй национальную рознь и тому подобное. В федеральном законе прописано, что не следует трогать. — Если вернуться к фильму об Алексее ТИЩЕНКО, что в
этом человеке особенного вы открыли? — Трудно сказать. Я тоже задавал себе этот вопрос – что особенного? Мне кажется, это человек очень-очень увлеченный. Он живет исключительно своим делом.
Я сам понимаю, что для получения такого успеха надо все остальное поставить на второй план. Невозможно делать десять дел одновременно. У него есть одна главная цель, собранность, воля в
кулаке. Именно люди с таким характером, наверное, и становятся олимпийскими чемпионами. — Еще один ваш фильм омского спорта касается — «Игра», о фанатах «Авангарда». Фанатская тема сейчас
как раз на гребне моды. Почему вас заинтересовали хоккейные болельщики? — Фильм «Игра» — это не совсем омский проект, его мы делали на свердловской студии. Фанатская тема всегда была модной.
Я заметил, что во всех фильмах о фанатах наблюдаются определенные штампы: ритмичная музыка, драки, псевдогероизм, патетика. На самом деле фанатизм – штука глубокая. Если разбираться в этом,
то откроется много и политики, и психологии. Что прикрываем мы с помощью фанатизма, от чего отвлекаемся? У меня серьезный вопрос: если бы не было «Авангарда», так ли долго просидел бы наш
губернатор? Хоккей — это способ отвести внимание людей от настоящих проблем, по сути — способ политической манипуляции. Хотя, безусловно, очень интересная игра. И я очень позитивно отношусь
к людям, с которыми мы там познакомились. Они любят свою команду, они классные, интересные. Но само по себе явление фанатизма очень непростое. В фильме я не хотел ставить такую проблему. Мне
кажется, что подобными вопросами должны заниматься люди другой профессии – журналисты, например. А я просто попробовал понаблюдать за этими ребятами. — Как вы сами к хоккею относитесь? — К
сожалению или к счастью, сам я не фанат. Приведи меня на матч – просижу первую часть, устану, потом уйду или читать книжку стану. Поэтому мне было интересно, что переживают эти люди.
Казалось бы, какое вам дело до того, что на льду происходит? Ведь у каждого человека своя жизнь, пусть не такая интересная. Кто-то работает кондуктором, кто-то в офисе, у кого-то свой
бизнес. У одних проблемы со здоровьем, у других — личные трагедии. А на игре они как будто забываются, уходят в иной мир, чувствуют себя причастными к чему-то большему — к гимну России, к
победам. Радуются, когда какой-то человек, с которым они даже не знакомы, забивает шайбу в чужие ворота. Ваше-то дело какое, ваша радость в чем? С игроками все ясно – эти ребята хорошо
зарабатывают, и многие из них вряд ли считают себя омичами, хотя и говорят об этом на телекамеры. Но за них искренне радуются эти увлеченные люди, фанаты. Когда турнир проходит, то люди
возвращаются на землю – кто в свой ларек, кто на свой автобус. И все это — сумасшедшая феерия, карнавал, виртуальная реальность — заканчивается до следующего чемпионата. — А что, если
«Авангард» вдруг перестанет быть сильной командой? — Омску очень нужен «Авангард», он является для всего региона эмоциональной отдушиной. Здесь другого ничего толком и нет. На омский театр
часто ставят акцент, но он очевидно пользуется меньшей популярностью. Остальное не настолько развито, а людям ведь нужно себя как-то занять, о чем-то думать, что-то любить. Это важно. Нам
нужен, конечно, не только хоккей. Пусть будет и хоккей хороший, и футбол, и музыка, и кино, и театр. Это все должно развиваться гармонично. Взять, например, Екатеринбург. Там есть очевидные
звезды в музыке – ЧИЧЕРИНА, «Чайф», шансонье Александр НОВИКОВ, «Агата Кристи». Они живут в Екатеринбурге, и для местных жителей они – свои. У нас людей таких нет почти. Была до недавнего
времени «Гражданская оборона», но и то – абсолютно вне системы. — Вы упомянули о своей любви к Омску. Что за обаяние вы в нем нашли? — Не просто обаяние. Я нигде себя так комфортно не
чувствую, как в Омске. Единственное – работать здесь тяжело. Приходится прикладывать тройные усилия, чтобы сделать то же самое, что в других регионах выполняется с легкостью. Сюда хорошо
приезжать, чтобы встречаться с родственниками, друзьями, общаться. В этом смысле здесь невероятно просторная, хорошая атмосфера. Люди — проще, добрее. Такое чувство, что у всех здесь больше
свободного времени, в отличие от шумящих мегаполисов. Когда выходишь из самолета, то ощущение, что попадаешь в замедленную съемку. Жизнь нетороплива. Мне очень важно иногда приезжать сюда,
чтобы напитаться этой атмосферой. — Вы сюда часто приезжаете? — Да, довольно часто. Так как у меня в Омске фирма, где есть какой-то оборот, хоть и небольшой, самое редкое — раз в два месяца
мне нужно здесь бывать, чтобы решать бухгалтерские и производственные вопросы. Еще недавно наш главный офис размещался в Омске, на ул. Ленина, но за нецелесообразностью мы перенесли его в
Екатеринбург. Здесь у нас остается несколько сотрудников, которые периодически участвуют в проектах и с которыми мы не собираемся прекращать отношения. Но все же каким-то естественным
течением из Омска меня уносит. — И не только вас... — Омск стал уездным городом в том смысле, что многие люди отсюда уезжают. Мои знакомые — интересные, умные ребята, которые хотели чего-то
добиться, отсюда уже уехали. Кто в Новосибирске, кто в Москве, кто в Екатеринбурге, кто в Петербурге, кто – вообще за рубежом. То, что отсюда утекает энергичная молодая сила, с амбициями,
желаниями, — это большая проблема. Ладно, если в Москву – со столицей сложно кому-то сравниться. Но когда уезжают в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень… Еще лет 10 назад эти города
были вровень, а то и ниже по уровню, чем Омск. Недавно я ехал в поезде, и там с другим пассажиром у меня показательная беседа случилась. Человек поинтересовался, куда я еду, и я ответил,
что в Омск. А он спрашивает: «А Омск — это где? Там, за Тюменью?». Представляете – Тюмень, полумиллионник, он знает, а Омск – это где-то там, за Тюменью. Меня так это задело! Ведь на
федеральном уровне Омск совсем не слышно. Мне кажется, сильное отставание произошло в последние годы. Взять цены на недвижимость – в Екатеринбурге они в два раза выше, хотя еще 10 лет назад
были одинаковыми. Нам говорят о том, что областная власть заботится о недорогом жилье, но ведь стоимость — это обычный показатель спроса. Все упирается в низкий уровень жизни нашего
населения, как и в нежелание здесь оставаться и сюда приезжать. — Почему вы решили снимать именно документальное кино? — Образование я получил как раз по художественному кино, и диплом
защищал по нему же. Но я никогда не хотел снимать ни артхаус, ни молодежно-глуповатое или сериальное кино, а думал о хорошем в интеллектуальном смысле кино, которое обычно удается более
зрелым авторам. Когда в 22 года я окончил киношколу, внутренний голос мне подсказал не лезть пока в игровое кино. Я сразу стал бы смешным, потому что был еще не готов. Можно было уйти в
артхаус или начать искусственно искать новые формы, но это не мое. Документальное кино для меня стало, во-первых, возможностью снимать что-то творческое, во-вторых – не только
профессиональным, но и жизненным опытом. Я начал общаться с разными людьми: буддистскими монахами, актерами провинциальных театров, фанатами, олимпийскими чемпионами, нефтяными генералами,
сектантами, представителями властной верхушки… Все это влияет на меня, я становлюсь взрослее. Сейчас я бы уже не стал задумываться, появись у меня возможность снять художественный фильм. В
Екатеринбурге мы уже готовим почву для моего игрового дебюта. Думаю, сейчас самое время. Надеюсь, что не позже чем через год приступим. Есть, увы, экономические вопросы. — Сложно найти
поддержку? — У восьми студий, которые сейчас являются монополистами, свои порядки. Министерство культуры совсем мало поддерживает дебюты. В прошлом году профинансировали всего один, при
наличии более чем сотни заявок. Игровое кино – это серьезные деньги и серьезная ответственность. Вложения в документалку в этом смысле более оправданны. Она хотя бы гуляет в Сети, светится
на фестивалях, с ней что-то происходит. А здесь — вложить 100 млн в фильм, а потом не знать, куда его деть и кому его показывать? ГЕРМАНИКА в этом смысле, пожалуй, одна такая — взяла и сразу
стала заметной. Таких примеров совсем немного. — Вы знакомы с Валерией Гай ГЕРМАНИКОЙ? — В киношколе мы в одной группе учились. У нас с ней хорошие были человеческие отношения, но всегда
имелись идеологические разногласия. Я стремился к романтизму, позитиву в кино. А Лера делала фильмы гиперреалистичными, гиперправдивыми, чем шокировала меня как зрителя. Но в итоге то, что
она выбрала своим направлением, оказалось реально более востребованным. Эти маленькие камеры, стиль документальной правды, прием подглядывания, которые она перенесла в игровое кино, да еще и
в сериалы стали настоящим трендом. Безусловно, она доказала, что зрителю интересно то, что она делает. У меня к этому другое отношение. Очевидно, что фильмы Леры больше всех других сейчас
на языке. Они острее, сильнее бьют, вызывают больше эмоций, пусть и далеко не всегда позитивных. — А в целом как вы относитесь к экспериментам в кино? — Очень хорошо отношусь к
экспериментальному кино. Мне запомнилась формулировка нашего мастера в киношколе по документальному кино Марины Александровны РАЗБЕЖКИНОЙ, которая говорила, что сегодня классикой, даже очень
хорошей, никого не удивить. Нужно постоянно работать на острие ножа – с риском, с экспериментом. Если вы хотите снять классический фильм — поверьте, уже есть кому его снять. Есть выдающиеся
мастера этого дела, а новым режиссерам следует снимать то, что могут только они. Лера ГЕРМАНИКА поймала как раз ту тему, про которую может рассказать только она. Девочки, школа, остальные
ее сюжеты – это то, в чем даже очень хороший режиссер, но другого возраста и жизненного опыта, окажется бессилен. Она взяла то, что знает, и показала изнутри. — В документальном кино
достижима объективность? Ставите ли вы перед собой такую цель? ? Хочется быть объективным, но получается всегда субъективно. Ничего не поделать – я отвечаю за монтаж и оставляю то, что тянет
оставить. У нас принцип – снимать непрерывно. Лезем во все самые неприличные части человеческой жизни, так уж получается. Все, что я слышу и знаю про людей, с которыми я работаю, мне самому
страшно от того, что я это знаю. Камера и микрофон, который постоянно сопровождает героя, – это очень жестокая вещь. Непрерывно, с утра до вечера, с разных точек следит камера, но люди
забывают, что их снимают, и начинают жить своей жизнью, проявлять себя. Начинают себя вести как привыкли, часто — говорить такие вещи, от которых бросает в холодок. Потом при монтаже я не
вставляю этого в фильм, потому что не хочу ничего такого показывать. — Много нового вы узнали о людях? — Много. Люди не такие, какими кажутся. К сожалению или к счастью. Мы ведь не как
телевидение – сняли и уехали, а на месяцы погружаемся в жизнь героев. В узком пространстве, под непрекращающимся наблюдением камер люди, которые вначале пытались производить впечатление
правильных на язык и на взгляд, вдруг превращаются в полную противоположность, открываются с новой стороны! Причем в самые неожиданные моменты. — Из последнего художественного кино что вам
понравилось и запомнилось? — Особенно отразилась Лера с «Все умрут, а я останусь». Алексей ФЕДОРЧЕНКО с «Овсянками» — он интересен, заметен, антропологичен, глубок. Интересные работы у
Бориса ХЛЕБНИКОВА, с удовольствием посмотрел работы Сергея ДВОРЦЕВОГО. Если честно, у меня мало времени на просмотр кино. Обычно на фестиваль приезжаю и скопом все сразу отсматриваю. В
обычной жизни легче получается смотреть разные интересные короткометражки — по 10-20 минут. От полного метра обязательно что-нибудь отвлечет. Поэтому мне кажется, что будущее – за
короткометражным кино и за интернет-кино, которое пока не оформилось как направление, но обязательно появится.